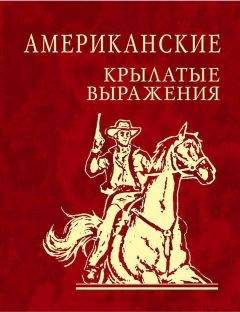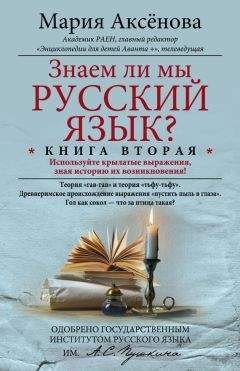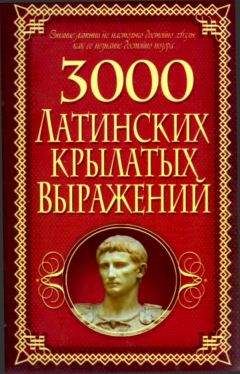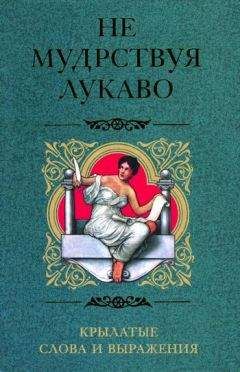После её смерти, Филька унаследовал материнскую комнату, пропахшую табаком и лекарствами. А несколько месяцев назад наткнулся на тайник. Оказалось, что половицы под кроватью поднимаются и внизу, в уютном ложе из стружек, покоится дюжина пузатых бутылок с густым и сладким вином. Теперь, каждую ночь, помолившись и поцеловав отца, Филька наливал себе полкружки, не спеша выпивал и, вытягивался на постели. Голова начинала кружиться, кровать покачивалась, то плавно поднимаясь вверх, то опускаясь. Становилось легко, мысли путались и, вскоре, исчезали совсем.
Весь день Филька проводил внизу, в трактире. Разливал на кухне квас по кувшинам, чистил и точил ножи, менял скатерти, таскал помои к выгребной яме. Мог легко заменять полового, принимая заказы и разнося тарелки с закусками. Научился бесшумно появляться за спиной посетителя, подобострастно выдыхая: «Чего изволите-с? Ушица сегодня на славу-с». Отцу, правда, морщился, видя, как Филька летает меж столами с подвыпившими гостями.
— Не дело тебе в зале крутиться, — ворчал он. — Грамоте учиться пора, хватит бездельничать–то.
Однако в школу Фильку отдавать не спешил. Половой же Афанасий, считал, что от грамоты глаза портятся, да волосы вылезают. И обучал мальчонку, как подпоить гостя, плеснув ему в пиво водки, чтоб затем выудить монетку из кармана или разжалобить на чаевые. Филька отдавал деньги Афанасию, и тот привозил из города сверкающие стеклянные шарики, расписные глиняные свистки, оловянных солдатиков и прочие сокровища.
В этот день, половой влетел на кухню с ошалелыми глазами и, заикаясь от восторга, зашептал Фильке на ухо, — В зале господин заезжий. С мамзелью. Полон кошель ассигнаций. Вторую бутылку хранцузского заказали. Отнеси им, да сиротой прикинься. Пожа–а–алоби.
Афанасий хохотнул, растрепал мальчишке волосы и мазнул по лицу печной сажей.
Филька, перебросил полотенце через руку, скорчив разнесчастную рожу и чуть приволакивая ногу, понёс бутылку гостям.
Мужчина в кремовом летнем костюме сидел напротив спутницы, закинув ногу на ногу, и над чем–то заразительно смеялся, время от времени снимая и опять надевая золотое пенсне.
— Уверяю вас, Лидочка, — говорил он мягким, приятным голосом, — Доставляет удовольствие только то, что не нужно.
— Прекратите. Антон Павлович, — махала на него дама белой кружевной перчаткой, — вы литераторы, все, как один невозможные циники.
Филька, вздыхая и охая, словно старик, водрузил бутылку на стол.
— Ещё чего изволите? — в голосе мальчонки звучала неподдельная скорбь.
— Ступай, пока, — небрежно махнул рукой мужчина.
Однако, на даму вздохи и грусть в глазах, кажется, произвели впечатление.
— Такой маленький и уже помогаешь родителям? — ласково спросила она.
— Сирота я, тётенька, — пустил слезу Филька. — Вот, прибился здесь на денёк. За плошечку щей, да хлеба краюху.
Мужчина молчал, раздражённо теребя бородку и досадливо поглядывая на сироту.
— А как тебя зовут, мальчик? — дама явно не хотела его отпускать.
— Ванька, — зачем–то соврал Филька. — Ванька Жуков. Я в город шёл, хотел грамоте учиться. Да, видать не дойти мне.
Он так увлёкся ролью неведомого сироты Ваньки, что слёзы потекли сами собой.
— И что же ты, совсем–совсем один? — голос женщины задрожал.
— Дедушка в деревне остался, — удивляясь самому себе, нёс Филька. — Константин Макарович.
— Далеко отсюда твоя деревня? — заинтересовался господин.
— Далеко, дяденька, — уже ревел мальчик.
— Нет, это решительно нельзя так оставлять, — вскочила со стула дама. — Антон Павлович, миленький, ну придумайте же что–нибудь. Помните, вы рассказывали, что ваш знакомый держит приют для таких бедняг.
— Миша Тауб? — задумался мужчина. — Что же, давайте навестим на днях, может быть и найдётся местечко.
— Никаких «на днях», — дама была настроена крайне решительно. — Едем немедленно. Что у тебя из багажа, Ванечка?
— Ась? — растерялся Филька. — Нету у меня ничего.
Он понял, что события начали развиваться не по плану и приготовился улепетнуть. Однако было поздно. Господин, расплачиваясь, бросил ассигнацию на стол, крепко ухватил мальчика под локоть и потащил к порогу. Следом, шурша юбками, поспешала дама. Около пролётки, до Фильки, наконец, дошло, что сейчас его повезут в приют.
— Тятя, — завизжал он по–поросячьи, — убивают! Тятя!
От неожиданности, мужчина выпустил его руку, и Филька свалился на дорогу.
Из сарая, держа в руках жестянку керосина и воронку, выбежал отец. Прищурился от дневного света, и, увидав сына, которого господин тащил в пролётку, заорал, — Пусти, убью!
— Гоните, Антон Павлович! — страшным голосом возопила дама, прыгая в повозку…
Через час, сидя на кухне и захлёбываясь слезами, Филька в сотый раз пересказывал усатому приставу, как чужой дяденька предлагал ему покататься.
— Грамоте, — всхлипывал он, — обещал научить.
— Увижу ещё раз, убью, — мотал головой, успевший напиться отец. Стоящий в углу половой Афанасий, сокрушённо покачивал головой.
ХОДИТЬ ГОГОЛЕМ
Практически каждый современный человек живёт согласно ритму, который навязывает ему общество. Пять–шесть дней работы и день отдыха. Или, сутки труда и несколько суток безделья. Возможен и, так называемый, «вахтовый» график, когда работник вкалывает не покладая рук в течение нескольких недель. Ещё существуют такие профессии, как моряк, золотоискатель и космонавт.
Литераторы… У них всё запутано и непонятно. Взять, к примеру, Николая Васильевича Гоголя. Ровно пять дней великий классик творил, не выпуская пера из пальцев, а, затем, две недели пребывал в глубочайшей депрессии. Спал, не раздеваясь, отказывался от пищи и подавленно молчал. В один из таких дней к нему нагрянул с визитом сибарит, жизнелюб и коллега Лев Толстой.
— Или в карты проигрался, или актриска какая сердце Николаше разбила, — с видом знатока прищурился граф.
Кликнул слуг, завернул товарища в плед, вынес безвольное тело к карете и гаркнул кучеру, — В усадьбу!
В Ясной Поляне Толстой, свято верящий в целебную силу всего исконно русского, парил Гоголя в бане, поил домашними настойками, водил на покос, катал на лодке. Всё бесполезно. Ни помогли даже озорные девки–плясуньи. Николай Васильевич сидел в кресле, уронив носатую голову, и подавленно молчал.
Отчаявшись и изрядно испугавшись за состояние друга, Лев Николаевич вызвал из Москвы знакомого врача Сергея Петровича Боткина.
— Уверен, батенька, — по привычке покручивая стетоскопом, басил Боткин, — что это глубочайший депрессивный синдром. Однако…
В этот миг, двери кабинета распахнулись, и на пороге возник Гоголь. Босой, заросший щетиной, в распахнутой на груди рубахе.
— Ребятушки, — завопил он, — день–то какой погожий!
И отбив пятками нечто вроде чечётки, бросился обнимать Толстого. Боткин от удивления выронил стетоскоп.
— Русь–матушка, птица–тройка, Днепр–батюшка, — кружил по кабинету Николай Васильевич. — Лёвушка, брат любезный, распорядись, что б чернил мне дали. И бумаги! Бумаги побольше!
Пять дней Гоголь писал. Энергия била из него фонтаном. Не в силах усидеть за столом, он выбегал на луг, вырывал у ближайшего крестьянина косу, стремительно выкашивал огромный участок и снова мчался в кабинет. Ночью Толстой просыпался от его радостного смеха или украинских застольных песен.
Депрессия застала Николая Васильевича, купающимся в пруду. Чуть не утонув, он с трудом доплыл до берега и мокрый, похожий на больную цаплю побрёл к усадьбе.
Две недели Толстой выжидал, отмечая дни в календаре.
На пятнадцатый, услыхав из спальни раскатистое — «Несе Галя воду, коромисло гнеться,
за нею Іванко, як барвінок вьеться», — облегчённо вздохнул.
ХОЛОДНЫЙ САПОЖНИК
«Холодные сапожники» появлялись в Москве к концу ноября, когда щёголи прятали в сундуки лаковые ботинки, а дворники и уличные торговцы сменяли сапоги на валенки. По первому снегу, крестьяне ближайших губерний, съезжались в подмосковные Кузьминки. Там их с радостью встречали, сдавая, простоявшие без дела лето и весну, бараки. Расквартировавшись, гости сбивались в ватаги, выбирая старшин. Те, в свою очередь, делили на сходке город по участкам.
И вот, поутру, обвесив сани бубенцами, развесёлые, краснощёкие от морозца вольные сапожники врывались в Москву. Рассыпавшись, словно горох по площадям, приставали к прохожим, предлагая своё мастерство.
— Студент, глянь! Сапог каши просит. Давай–ка его сюда, вмиг подштопаем.
— Барышня, дозволь набоечку сменить. Каблучки чистым серебром зазвонят.
— Эй, тётка, сымай валенок, пятку залатаю.
А кухарки, да служанки, услыхав перезвон колокольцев, да крики зазывал, бегут, прихватив в охапку хозяйскую обувку. Холодный сапожник за работу копейку возьмёт, а барину об том ведать ни к чему.
![Олифант Олифант - Секреты крылатых слов и выражений[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/274096/274096.jpg)